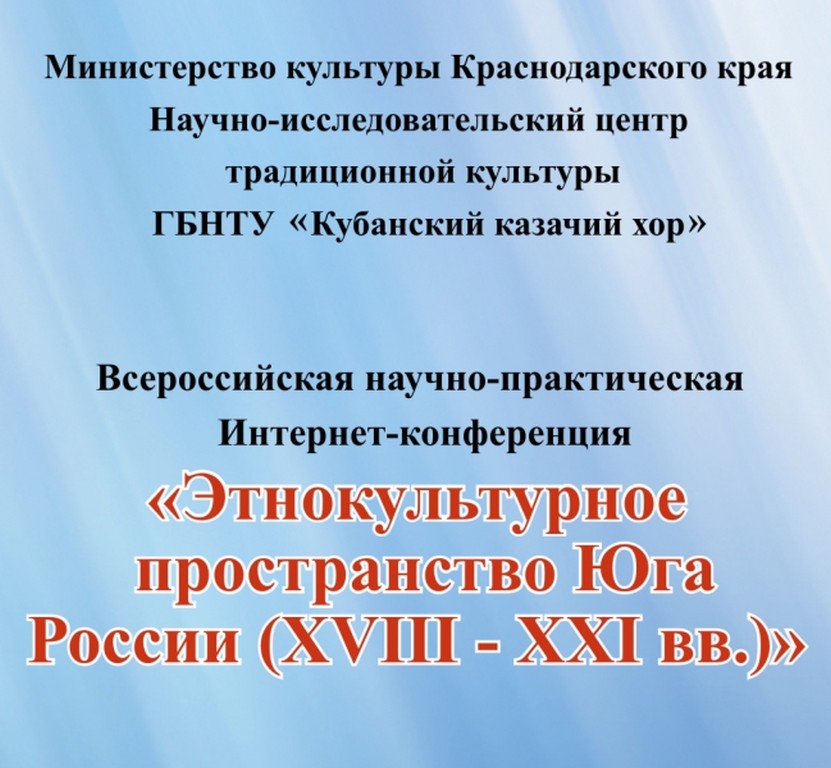Переселение крестьян из других регионов России в станицы и посёлки (хутора) Кубанской области во второй половине XIX века сопровождалось весьма благотворными экономическими последствиями. Лица невойскового сословия внесли большой вклад в развитие, как сельского хозяйства, так и промышленности.
Долгополов К. В. (г. Армавир),
аспирант, АГПА (Армавирская государственная педагогическая академия)
Переселение крестьян из других регионов России в станицы и посёлки (хутора) Кубанской области во второй половине XIX века сопровождалось весьма благотворными экономическими последствиями. Лица невойскового сословия внесли большой вклад в развитие, как сельского хозяйства, так и промышленности. Однако работ, уделяющих внимание правовому положению и деятельности иногородних на Кубани в пореформенный период, остаётся по-прежнему недостаточно. Среди них отметим исследования Л.М. Мельникова, Л.В. Македонова, Б.В. Тихонова, М. Лолы, Б.Н. Миронова [1] и др. Более подробно изучить данную тему поможет анализ как уже имеющейся литературы, так и новых сведений, обнаруженных автором в Государственном архиве Краснодарского края и в дореволюционной прессе.
Цель настоящей статьи – осветить положение иногородних, не имевших паспортов на постоянное или временное проживание на Кубани в пореформенный период.
Начиная со второй половины 60-х годов XIX века, земли Кубанской области стали активно заселяться выходцами из чернозёмных центрально-земледельческих, малороссийских и средневолжских губерний России. Среди них главное место занимали: Воронежская, Харьковская, Полтавская, Курская, Екатеринославская, Черниговская и Орловская [2]. Представители местного начальства в своих отчётах отмечали, что к переселению на новые земли склонялась большая часть крестьянства. Так, воронежский губернатор, отвечая на вопросы МВД о миграции крестьян, писал: «Переселения в Воронежской губернии вызываются различными причинами: недоброкачественностью наделов, их недостатком, отсутствием выгонов и пастбищных мест и … каким-то общим стремлением к передвижению, для того чтобы улучшить своё положение…» [3]. А В.И. Ленин отмечал, что «…крестьяне массами бегут из местностей с наиболее патриархальными хозяйственными отношениями, с наиболее сохранившимися отработками и примитивными формами промышленности, в местности, отличающиеся полным разложением «устоев» [4]. Таким образом, в силу отмеченных и других причин возникали крупные направления миграций крестьян-переселенцев из центральных и южных губерний России на территорию Кубанской области.
Нередко случалось, что иногородние прибывали в регион без каких-либо документов. Поскольку эти переселенцы не имели при себе паспортов или письменных видов на жительство, то станичные атаманы зачастую отказывали им в свободном селении на землях Кубанского казачьего войска. Это приводило к тому, что иногородние были вынуждены незаконно, своевольно занимать свободные участки земли или втайне от местного начальства селиться у коренного населения [5]. Так, в начале 60-х годов XIX века крестьянин Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, с. Терновки Семён Соловьёв проживал под фальшивым паспортом у казака ст. Усть-Лабинской, крестьяне Воронежской губернии, Новохопёрского уезда, слободы Алфёровки Климентий Гречко, Пётр Глущенко, Семён Серебрянский – у казаков ст. Курганной, а крестьянин той же губернии Яков Пивоваров – у казака ст. Воздвиженской [6].
Переселенцы, прибывшие на Кубань без паспортов, старались браться за любую работу, которую им предлагало местное население. Так, крестьяне Воронежской губернии Пётр Глущенко и Яков Пивоваров со своими товарищами в апреле 1862 года были наняты в ст. Новонижестеблиевской купцом Якунинским для перевозки рыбы из этой станицы на ярмарку в Курскую губернию. Крестьянин Калужской губернии, Жиздринского уезда, Ловадской волости, деревни Хролова Филат Картошкин и крестьянин Воронежской губернии, Острогожского уезда, Шапошниковской волости Фёдор Голубничий находились в Черноморском округе на работах по устройству шоссейной дороги. А крестьянин Воронежской губернии Захар Терников во время проживания в ст. Усть-Лабинской находился на работах у жителей данной станицы следующее время: у станичного судьи Кирилла Косицина один месяц, у урядника Федота Бухлова три недели, у урядника Николая Кашинского тринадцать дней, у казака Анисима Колодкина две недели, у казака Абрама Минаева один месяц, у урядника Федосия Патринова полторы недели, у казака Петра Комнанова пятнадцать дней и у казака Александра Авдеева один месяц [7].
Необходимо отметить, что в первое время местное население было не против наплыва таких переселенцев. Казаки с большой охотой давали приют иногородним, особенно в сезон работы. Подобные действия коренных жителей в своём рапорте, адресованном на имя начальника Кубанской области, атаман Темрюкского отдела объяснял тем, что они извлекали из «нелегального положения» мигрантов несомненные для себя выгоды. Так, он писал, что иногороднему, не имевшему при себе каких-либо документов, «…можно или совсем не заплатить за труды, или рассчитаться по своему усмотрению. Жаловаться он не будет из опасения обнаружить своё положение. Поэтому, в руки полиции такие люди попадаются только случайно…» [8].
В связи со сложившейся ситуацией, российским правительством при участии представителей казачьей администрации были разработаны законы, соблюдение которых требовалось от каждого иногороднего. Данные преобразования проводились в первую очередь для успешного заселения и хозяйственного освоения региона. Так, все желающие переселиться на Кубань, обязаны были подать на имя атамана Кубанского казачьего войска прошение и предоставить при этом ряд необходимых документов. К этому списку относились приговоры от сельских обществ, к которым принадлежали мигранты по месту жительства, сведения о том, что на семействе иногородних нет никаких казённых, земских или мирских недоимок и что все подати оплачены ими по 1 января следующего года, а также данные о том, что они не состоят под судом и следствием [9].
Несмотря на установленные российским правительством законы, далеко не все мигранты стали их соблюдать. Б.В. Тихонов, исследователь переселенческой политики в России пореформенного периода, в своей работе отмечал, что «об ограничительных распоряжениях правительства крестьяне в губерниях выхода узнавали по письмам … или по слухам и приходили к выводу, что им нужно лишь суметь любым способом выбраться из Европейской России и добраться до заселённых мест, хотя бы и самовольно, а затем дождаться официального водворения на казённые земли» [10]. Также, по сообщениям местного начальства, в начале 90-х годов XIX века «…наплыв в Кубанскую область разного рода бродяг, без письменных видов и вообще лиц порочного и подозрительного поведения не прекращается, а, напротив, из года в год усиливается… Все они кинулись в Кубанскую область, где привлекает их, кроме легкости заработка для дневного пропитания, ещё и полная свобода для преступных деяний…» [11]. Например, жителям ст. Крымской 8 сентября 1891 года на станичном сходе было объявлено, что за последние два года под руководством станичного атамана поймано и передано на разбирательство судебного следствия более 30 правонарушителей, основная часть которых состояла из воров, разбойников и конокрадов. Из числа преступников, отправленных в тюрьмы, арестантские роты и на каторжные работы двое являлись коренными жителями этой станицы, а остальные все крестьяне и мещане из иногородних. Так, крестьянин Курской губернии, Щигровского уезда, Озёринской волости Еремий Кудрявцев был задержан и заключён в тюрьму г. Темрюка за конокрадство и проживание в ст. Крымской без письменного вида. В дальнейшем, по распоряжению атамана Темрюкского отдела Еремий Кудрявцев был выслан из Кубанской области на место жительства в Курскую губернию [12].
Для предотвращения преступлений, начиная со второй половины 80-х годов XIX века в станицах Анастасиевской, Славянской, Крымской, Абинской и в посёлке Вышестеблиевском некоторых жителей из числа иногородних стали брать под надзор полиции или станичных обществ. Например, крестьянин Екатеринославской губернии, Верхнеднепровского уезда, деревни Терноватки Павел Клименко, проживавший по просроченному паспорту в ст. Анастасиевской, в связи с распоряжением судебного следователя 12 июня 1888 года был принят под надзор полиции. Такие действия по отношению к переселенцу были применены представителями местной власти на основании ст. 48 и 49 «уложения о наказаниях уголовных и исправительных». Согласно данному документу, осуждённые к заключению в тюрьму или к исправительным работам в арестантских отделениях, после своего освобождения переходили сроком на 2 или 4 года «под особый надзор местной полиции или их обществ…». В течение указанного времени эти лица были не вправе менять и покидать своё место жительства без особого на это разрешения полиции или станичного общества [13].
Чтобы сократить число прибывших в край беспаспортных иногородних, представители казачьей администрации предлагали начальнику Кубанской области использовать следующие меры. Так, атаман Темрюкского отдела считал необходимым назначить в распоряжение атаманов отделов дополнительных помощников для наблюдения за станичным хозяйством и судами, увеличить число патрулирующих по станицам казачьих расчётов и принять их на службу сроком на один год, чтобы они успели под руководством урядников ознакомиться со своими обязанностями. Из исследованных нами источников, сохранившихся в Государственном архиве Краснодарского края, стало известно, что ни одно из мероприятий, предложенных атаманом Темрюкского отдела, руководством Кубанского казачьего войска не было принято к рассмотрению [14].
С наплывом в край беспаспортных переселенцев представители войскового сословия боролись следующим образом. Так, 5 ноября 1892 года начальник Кубанской области Я.Д. Малама в своём распоряжении предписывал атаманам отделов и городским полицеймейстерам «немедленно приступить к проверке всех иногородних лиц, проживающих в области…». Далее он приказал обратить особое внимание на табачные плантации и хутора, находящиеся на частных землях, так как именно в этих районах больше всего скрывается бродяг и беспаспортных. Также Я.Д. Малама поручил атаманам отделов ознакомить станичных и поселковых атаманов, аульных и сельских старшин с правилами задержания и выселения на родину переселенцев, не имеющих при себе письменных видов на жительство [15].
После издания данного распоряжения мигранты, находившиеся в регионе, были подвергнуты проверке документов. Например, в ст. Ильской в апреле 1892 года станичным атаманом была проведена проверка письменных видов у всех иногородних, имевших временную или постоянную осёдлость в этой станице. В ходе данного мероприятия выяснилось, что переселенцев, проживавших в ст. Ильской по просроченным паспортам, насчитывалось 16 человек, а живших в станице без документов – 18. Основная масса мигрантов прибыла в станицу из Орловской и Тамбовской губерний. Подобное происходило и в других станицах области. Так, в ст. Нижнебаканской 15 апреля 1892 года станичным атаманом урядником Прокофием Ловым во время разъезда по станице было обнаружено, что лиц невойскового сословия, проживавших без документов в данной местности, насчитывалось 10 душ обоего пола. Большая часть нарушителей состояла из выходцев Тамбовской губернии. А в ст. Старотитаровской 8 июля 1893 года станичным атаманом был задержан за отсутствие письменного вида на жительство крестьянин Екатеринославской губернии, Александровского уезда, Раздорской волости селения Семёновки Иван Губа. В Кубанскую область он прибыл из родной губернии на заработки. По наведённым справкам оказалось, что иногородний «пьянствовал в станице без определённых занятий…». В связи с этим, станичный атаман урядник Иван Перелович постановил на основании ст. 1220 устава «Уголовного судопроизводства» предоставить задержанного «…на зависящее распоряжение в Управление Темрюкского отдела для привлечения виновного к уголовной ответственности…» [16].
В своём рапорте, адресованном на имя начальника Кубанской области, атаман Темрюкского отдела 5 июня 1893 года отмечал, что «для преследования иногородних лиц, проживающих в поселениях отдела без паспортов и с просроченными видами, а также лиц подозрительного поведения, в видах предупреждения и пресечения преступлений … постоянно принимаются самые настоятельные меры; кроме обыкновенных розысков, производятся и облавы станичных юртов с помощью офицеров и конных казаков…» [17].
Бывали случаи, что во время проверки документов полицейскими допускались ошибки. Например, один из офицеров Темрюкского отдела задержал, помимо переселенцев, не имевших письменных видов на жительство, ещё и тех, которые хоть и имели просроченные паспорта, но проживали в станицах давно и занимались разными ремёслами. Таких иногородних проверяющий собирался арестовать и отправить к атаману в отдел. Для того чтобы не допустить подобных недоразумений, начальник Кубанской области 30 сентября 1893 года поручил атаманам отделов, городским полицеймейстерам и начальнику Черноморского округа задерживать только тех переселенцев, которые оказались в регионе «…без видов на жительство и не в состоянии доказать тождественности своей личности ни письменными документами, ни благонадёжными свидетелями. Задерживаемых же лиц хоть и без письменных видов на жительство, но имеющих в области осёдлость или удостоверивших тождественность личности своей известными свидетелями и лиц с просроченными паспортами, когда нет сомнений в подлинности этих документов, ни в коем случае задержанию не подвергать…» [18].
Мигранты с просроченными паспортами, но хорошо известные представителям местной администрации, из области не высылались. Например, такие иногородние облагались штрафом на основании ст. 340 и 343 устава «О паспортах» и ст. 1220 устава «Уголовного судопроизводства». Только за 1892 год в Темрюкском отделе было оштрафовано 1259 человек на сумму 10 000 рублей [19].
Переселенцы, не имевшие при себе документов и не известные местной полиции, задерживались и передавались станичными и хуторскими атаманами на дальнейшее «зависящее распоряжение» к атаманам отделов. Такие действия представители казачьей администрации выполняли, руководствуясь п. 3 ст. 23 Положения «Об общественном управлении станиц казачьих войск», Высочайше утверждённого Государственным Советом 3 июня 1891 года. Если беспаспортных иногородних суд признавал виновными, то их отправляли обратно на родину, на общественные работы в арестантские роты или заключали в тюрьму [20]. Так, с 1 июля 1888 года по 1 января 1893 года из Темрюкского отдела «этапным порядком» было выслано 1010 человек. А крестьяне Воронежской губернии, Новохопёрского уезда, слободы Алфёровки Пётр Глущенко, Яков Пивоваров, Семён Серебрянский, Климентий Гречко, Захар Терников и крестьянин Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, с. Терновки Семён Соловьёв были признаны виновными в подделке и продаже ложных документов, бродяжничестве и проживании под фальшивыми паспортами в станицах Курганной, Воздвиженской и Усть-Лабинской. Вследствие этого на основании ст. 31, 33, 975, 976 и 977 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» военный суд приговорил их к ссылке в арестантские роты г. Ставрополя и г. Воронежа. Пётр Глущенко был отправлен в арестантские роты гражданского ведомства на один год, а Семён Серебрянский, Климентий Гречко и Захар Терников – в рабочий дом на 6 месяцев. После окончания срока работ их должны были отправить согласно ст. 48 и 49 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» на место жительства под особый надзор местного начальства. Под таким надзором Пётр Глущенко должен был находиться 4 года, а Семён Серебрянский, Климентий Гречко и Захар Терников – 2 года. Поскольку подсудимый Яков Пивоваров во время следствия скончался, то с него все наказания были сняты на основании ст. 155 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». Согласно ст. 152, 951 и 952 данного «Уложения» Семён Соловьёв в качестве наказания приговаривался к тридцати ударам розгами и ссылке в арестантские роты гражданского ведомства на один год. По окончанию срока иногородний направлялся на водворение в Восточную Сибирь для выполнения разного рода работ [21].
Таким образом, изложенные в работе факты позволяют сделать вывод о том, что переселение лиц невойскового сословия на территорию Кубанской области происходило главным образом из Воронежской, Харьковской, Полтавской, Курской, Екатеринославской, Черниговской и Орловской губерний. Среди прибывших в регион иногородних часто встречались люди, не имевшие при себе письменных документов, подтверждавших их социальный статус, звание и право на жительство. На Кубани они являлись наиболее бесправной группой населения. Часть из них работала в казачьих хозяйствах. Были и те, кто совершал преступные деяния (воровство, разбои), вёл асоциальный образ жизни (пьянство, бродяжничество и т.п.). С такими нарушителями представители казачьей администрации активно боролись. Задержанные после судебного следствия, доказавшего их виновность, подвергались различным наказаниям. Переселенцев приговаривали к штрафам, телесным наказаниям, отправке на родину, ссылке на общественные работы в арестантские роты или заключали в тюрьму. В то же время администрация не выдворяла за пределы области лиц с просроченными паспортами, которые давно проживали в станицах, не нарушали общественный порядок, занимались разными ремёслами и другими видами деятельности.
Примечания
1. Мельников Л.М. Иногородние в Кубанской области // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1900. Т. 6. С. 73–140; Македонов Л.В. Население Кубанской области по данным вторых экземпляров листов переписи 1897 г. Екатеринодар, 1906. 587 с.; Тихонов Б.В. Переселения в России во второй половине XIX в. М., 1978. 212 с.; Его же. Переселенческая политика царского правительства в 1892–1897 гг. // История СССР. М., 1977. № 1. С. 109–121; Лола М. О кубанском казачестве (казачество и сословная рознь на Кубани). Ростов н/Д.; Краснодар, 1926. 103 с.; Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.). СПб., 2003. Т. 1. 548 с.
2. Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 449. Оп. 3. Д. 95. Л. 2 об.–3; Тихонов Б.В. Указ. соч. С. 65–66, 149; Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 27–28; Мельников Л.М. Указ. соч. С. 78; Лола М. Указ. соч. С. 45; Македонов Л.В. Указ. соч. С. 577–578; Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). М., 1956. С. 75; Шершенко А.И. Правовое и экономическое положение иногородних на Северном Кавказе в связи с хозяйственным развитием края. Вып. 1. Кубанская область // Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь, 1906. Т. 1. С. 20.
3. См.: Чуркин М.К. Об особенностях аграрного кризиса в центрально-чернозёмных губерниях европейской России и возможных путях его преодоления во второй половине XIX – начале XX вв. // Вестник Томского Государственного Педагогического Университета. Томск, 2006. Выпуск 1. С. 35.
4. Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. М., 1971. Т. 3. С. 590.
5. Переселенцы в Кубанской области из внутренних губерний России // Кубанские войсковые ведомости. 1867. № 34. С. 139.
6. ГАКК. Ф. 252. Оп. 2. Д. 2869. Л. 2, 3 об., 4 об.
7. Там же. Л. 2–2 об., 4 об.; Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2003. Л. 74.
8. Там же. Ф. 449. Оп. 3. Д. 95. Л. 4 об.–5.
9. Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ). Собр. 2. 1862. Т. 37. № 38256. С. 411; Переселенцы в Кубанской области из внутренних губерний России // Кубанские войсковые ведомости. 1867. № 34. С. 139; Чуркин М.К. Указ. соч. С. 36; Беликов А.В. Переселенческая политика России после отмены крепостного права и «Положение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России» от 10 мая 1862 г. // Вестник Адыгейского Государственного Университета. Майкоп, 2007. № 2. URL: http://www.vestnik.adygnet.ru//files/2007.2/450/belikov_2007_2.pdf (дата обращения: 21.05.2010).
10. Тихонов Б.В. Указ. соч. С. 110.
11. ГАКК. Ф. 449. Оп. 3. Д. 95. Л. 2–3.
12. Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 803. Л. 5; Там же. Д. 1480. Л. 155–157 об., 183.
13. Там же. Д. 577. Л. 1–7; Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб., 1892. С. 51–52.
14. ГАКК. Ф. 449. Оп. 3. Д. 95. Л. 2, 5–5 об.
15. Там же. Л. 1–1 об.
16. Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 705. Л. 10–13 об., 25–25 об.; Там же. Д. 1480. Л. 105–105 об.
17. Там же. Ф. 449. Оп. 3. Д. 95. Л. 2.
18. Там же. Л. 8–9 об., 13.
19. Там же. Л. 2–2 об., 7–7 об.
20. ПСЗРИ. Собр. 3. 1891. Т. 11. № 7782. С. 329, 334; ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 705. Л. 1–13 об., 16–30; Там же. Д. 1480. Л. 19–21 об., 31–32, 45, 78–82 об., 87, 89–89 об., 100, 102–102 об., 104–105 об., 115, 155–164, 183, 204–205, 209–211, 220–222, 236, 277–279, 282–282 об.; Там же. Д. 2003. Л. 11–12, 19–19 об., 22–25, 74–74 об., 104; Там же. Д. 2454. Л. 12–12 об., 65, 150–150 об., 213.
21. ГАКК. Ф. 449. Оп. 3. Д. 95. Л. 2–2 об.; Там же. Ф. 252. Оп. 2. Д. 2869. Л. 2–2 об., 3 об., 4 об., 5 об.–6, 18; Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 47–48, 130–141, 144, 425–429.
Материал опубликован в том виде, как был предоставлен организатором конференции - Научно-исследовательским центром традиционной культуры ГБНТУ «Кубанский казачий хор».
Оставить свои комментарии или задать вопросы авторам докладов Вы можете с 29.11.2013 г. по 29.12.2013 г. по электронной почте slavika1@rambler.ru
«Этнокультурное пространство Юга России (XVIII – XXI вв.». Всероссийская научно-практическая интернет-конференция на официальном сайте Кубанского казачьего войска http://slavakubani.ru/.
Краснодар, ноябрь-декабрь 2013 г.