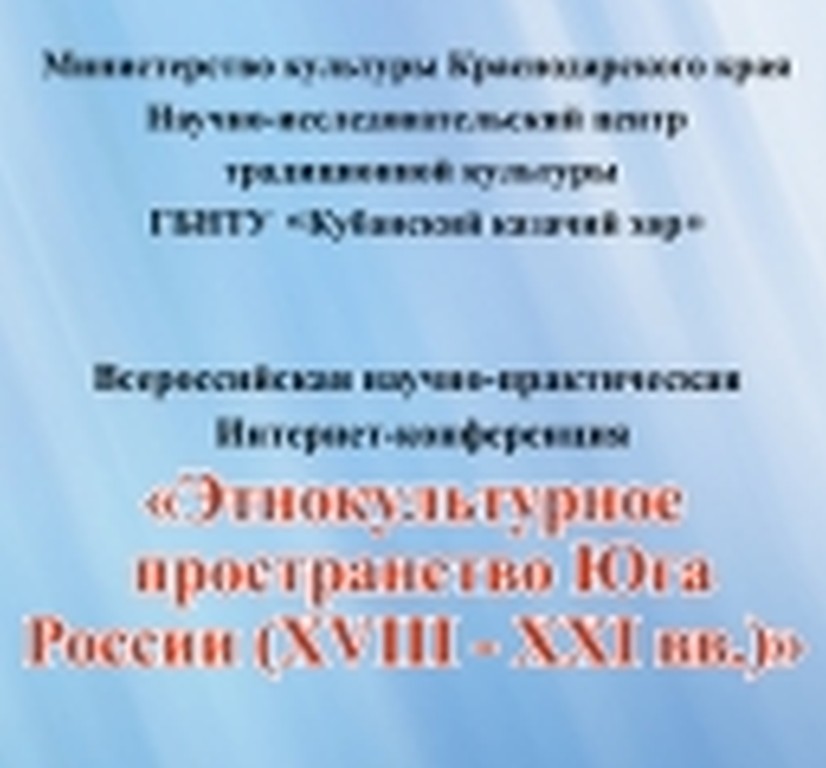Отношение новой власти к дореволюционной культуре казачества определялось желанием поскорее стереть его «бесславное прошлое», службу царю. Однако музеи казачества были созданы в Донской области в 1920 г., сразу после окончательного установления здесь советской власти.
Баева О. В. (г. Ростов-на-Дону), кандидат исторических наук,
доцент кафедры «История и культурология»,
Донской государственный технический университет
Без осмысления культурной доминанты невозможно понять историю того или иного этноса, субэтноса, периода в развитии региона или страны в целом, осмыслить опыт предшествующих поколений, понять суть и задачи современности, строить планы на будущее. Сказанное выше является особенно актуальным для истории, как юга России, так и Донского региона в частности. Донской край – территория, имевшая свою культурную специфику, обусловленную наличием казачьего населения. Известно, что казаки впитали культурное влияние многих народов и, став поданными Российской империи, во многом сохранили самобытность, что позволило исследователям считать казачество субэтносом [1].
К началу ХХ в. донское казачество представляло непростое этническое и культурное явление со сложными социально-классовыми отношениями. Гражданская война расколола казачество. По подсчетам А.В. Венкова [2], большинство боеспособных донских казаков – около 82% сражались на стороне белых и только 18% - на стороне красных. Ошибочная политика насильственного расказачивания, инициированная Донбюро РКП(б) и циркулярным письмом ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г., оттолкнула казаков от советской власти. Обстановка, сложившаяся на Дону, после окончания гражданской войны непосредственно влияла на общественные настроения, на «градус» общественного сознания. Казаки не доверяли советской власти, ощущали себя побежденными, завоеванными большевиками. Часть их продолжала участвовать в повстанческом движении до 1922 г. В основе политики новой власти лежало политическое недоверие казачеству. Сложность отношений советской власти и казачества достаточно хорошо изучены такими представителями исторической науки, как А.В. Венков, Я.А. Перехов, А.И. Козлов и др. Поэтому мы не будем подробно их описывать, отметив лишь то, что в основе лежала взаимная неприязнь.
Отношение новой власти к дореволюционной культуре казачества определялось желанием поскорее стереть его «бесславное прошлое», службу царю. Однако музеи казачества были созданы в Донской области в 1920 г., сразу после окончательного установления здесь советской власти. Комитет по охране памятников искусств и старины, созданный при Донском отделе народного образования (с апреля 1920 г. он был преобразован в Секцию музеев и охраны памятников искусств и старины, в 1921 г. секция преобразована в Областной комитет по делам музеев и охране памятников искусства и старины, народного быта и природы), сформировал сеть музеев, в том числе и в казачьих станицах [3]. В подчинении Доноблмузея, его музейной подсекции находились: Донской областной музей искусств и древностей, Донской областной музей революции, Областной музей природы, старины и искусства в г. Новочеркасске, Новочеркасский пчеловодческий музей, Азовский музей, Старочеркасский исторический музей, музей в станице Константиновской. В данном исследовании мы остановимся на одном из этих музеев, располагавшемся в станице Старочеркасской.
Официально считается, что Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник образован по инициативе М.А. Шолохова 30 декабря 1970 г. [4]. Однако исторические источники свидетельствуют, что такой музей был открыт в 1920 г. и первоначально назывался Старочеркасский исторический музей[5]. Видимо в 1921 г. (но не позже конца 1922 г., точных сведений не сохранилось) музей стал называться «Историческое древнехранилище им. С. Разина».
Работу музеев и, особенно, Старочеркасского древнехранилища тормозили недостаток средств и невнимательное, а порой и враждебное отношение власти к их нуждам. Борьбу за сохранение древнехранилища и его экспонатов вели А.М и Е.М. Гриневы. Они были хорошо образованы, владели несколькими иностранными языками. Основным местом их работы была школа.
Чтобы понять насколько была сложна задача сохранения казачьего наследия в 1920-е гг., необходимо учитывать, что все музеи Донской области после введения нэпа оказались в сложной ситуации. К 1 января 1923 г. осталось только два действующих музея: Донской областной музей искусств и древностей в г. Ростове-на-Дону и Областной музей природы и старины в г. Новочеркасске. Оба музея находились в крайне тяжелом положении. В Новочеркасске музей не отапливался, т.к. оттуда вывезли печи еще белые при отступлении, и денег на хозяйственные нужды музею не отпускалось. Работники этого музея изо всех сил старались сохранить экспонаты. Что же касается Старочеркасского древнехранилища, то сведений о нем Донской комитет по делам музеев не имел на протяжении всего 1922 г., следовательно, денег не выделялось не только на хозяйственные нужды, но и на оплату труда работникам. Это подтверждается тем фактом, что еще осенью 1921 г. музей был снят с госснабжения, видимо в силу того, что не представлял ценности в глазах власти. В 1923 г. от болезни и лишений скончалась заведующая музеем А.М. Гринева и ее преемницей стала сестра – Е.М. Гринева. Обе женщины работали на чистом энтузиазме.
В Старочеркасском древнехранилище были собраны предметы казачьей старины: мебель XVIII в., монеты, портреты донских атаманов и наиболее выдающихся донцов. Эти портреты были частью картинной галереи, появившейся на Дону еще в середине XVIII в. благодаря усилиям атаманов Ефремовых. Сам музей располагался в одном из строений на подворье атаманов Ефремовых – уникальном памятнике архитектуры XVIII – XIX вв.
Желая сохранить уникальный историко-архитектурный памятник и поддержать сестер Гриневых, заведующий Донским комитетом по делам музеев С.А. Визягин неоднократно обращался в местные и центральные органы власти с просьбой объявить всю станицу Старочеркасскую городом – музеем, хранящим памятники казачьего быта. Пытаясь сохранить древнехранилище, Визягин причислил его к Донскому областному музею с 1 июля 1923 г.
Попытки сохранить памятники старины не встречали поддержки властей. Отдел по делам музеев Наркомпроса присылал отписки об отсутствии средств, а местные власти просто разрушали памятники архитектуры и истории казачества. Предприняв ряд поездок по области летом 1923 г., С.А. Визягин в отчете о положении памятников старины сообщал, что они находятся в плачевном состоянии, подвергаются разрушениям, ремонтным переделкам. Таким образом, нарушался декрет СНК 1918 г. об охране памятников не только частными лицами, но и представителями власти. Окружные власти враждебно относились к деятельности Комитета по делам музеев, считая его работу пережитком старого времени. Для них предметы казачьей истории, оставшиеся с дореволюционного времени, ценности не представляли. Особенно враждебно был настроен Старочеркасский волисполком, что принесло немало бед сестрам Гриневым и нанесло урон музейным экспонатам.
Несмотря на экономическую стабилизацию и поворот политики властей в казачьем вопросе, начавшихся в области в 1924 г., в работе Старочеркасского древнехранилища улучшений не произошло. Можно даже сказать, что с этого времени начинается самое тяжелое для него время. Газета «Советский Юг» в апреле 1924 г. сообщила о том, что в станице Старочеркасской находятся уникальные коллекции старинных монет, картин. Однако сам музей бедствует: уникальные экспонаты разложены на самодельных столиках, и посетители постоянно трогают их руками, т.к. отсутствуют даже защитные стекла[6].
Ситуация значительно ухудшилась после того как станица Старочеркасская стала волостным центром и поменялся состав исполкома. Власть в станице перешла к людям, которые считали казачью историю «отрыжкой прошлого» и, следовательно, не признавали за экспонатами музея исторической ценности.
Летом 1924 г. представители Старочеркасского волисполкома опечатали древнехранилище, часть экспонатов перенесли в закрытый Ефремовский монастырь, часть передали детскому дому, который расположился в помещении закрытого музея. Воспитанники детского дома совершали набеги на древнехранилище и разоряли его. Они выносили экспонаты, которые потом продавали на рынке.
Е.М. Гринева, которая вместе с сестрой сохраняла музейные ценности в голодные времена начала 1920-х гг., совмещая работу в школе с неоплачиваемой работой в музее, стала на защиту музея и начала бороться за сохранение экспонатов. Недовольство представителей Старочеркасского волисполкома вылилось в травлю, нападки на Гриневу со стороны представителей советской и партийной властей привели к ее снятию с должности заведующей школой, а потом и исключению из числа учителей. Заведующую музеем поддержал С.А. Визягин.
Однако их совместная борьба успеха не имела. В 1925 г. оставшаяся часть экспонатов, в том числе старинная мебель из древнехранилища были переданы для эксплуатации советским организациям или проданы с аукциона. Визягин и Гринева организовывали поездки за свой счет в те населенные пункты, куда передали мебель с целью зафиксировать ее точное местонахождение, чтобы можно было вернуть ее в музей, в случае если удастся добиться отмены распоряжения Старочеркасского волисполкома. С.А. Визягин обращался в Донской отдел народного образования, Северо-Кавказский краевой отдел народного образования, в Донской окружной исполнительный комитет, но безрезультатно. Уже практически потеряв надежду на успех, Визягин обратился в отдел по делам музеев Главнауки, откуда в октябре 1925 г. пришел ответ. В документе говорилось о том, что вселение детского дома в помещение музея, вывоз экспонатов и в целом закрытие древнехранилища без ведома Главнауки является незаконным [7]. Это письмо послужило основанием для начала судебного разбирательства, в результате которого виновные в разорении хранилища наказания не понесли, дело было прекращено. Однако в мае 1926 г. детский дом был расформирован, помещение возвращено хранилищу, а вывезенные экспонаты и мебель продолжали находиться в пользовании различных учреждений.
В конце 1926 г. было назначено обследование древнехранилища с целью выявления его исторической ценности. Сохранился акт обследования, подписанный инспектором Краевой рабоче-крестьянской инспекции А.К. Панфиловым зимой 1926 г., который может служить примером отношения к казачьей дореволюционной истории представителей управленческого аппарата. В отчете сообщается о том, что музей «не имеет исключительного значения», большая часть его экспонатов ценности не представляет так, как в Старочеркасском древнехранилище имеются «… предметы, имеющие кое-какое значение только для Донского округа, и только в том случае, ежели бы кто вздумал воскресить бесславное былое казачества с его атаманами, портреты которых никакой ценности и редкости не представляют…»[8].
В 1920-е гг. Старочеркасское историческое древнехранилище благодаря усилиям А.М. и Е.М. Гриневых, А.С.Визягина удалось сохранить. Однако негативное отношение большинства представителей местной власти к казачеству привело к утере многих материальных памятников культуры и создало тяжелые условия для работы музея.
Примечания
1. Казачий Дон: очерки истории/научной ред. А.П. Скорик. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского облИУУ, 1995. Ч. 1. С. 54.
2. Венков А.В. Донское казачество в гражданской войне. Ростов-на-Дону, 1992. С. 62.
3. ГАРО. Ф. Р-1818. Оп. 1. Д. 447. Лл. 496.
4. См., напр., Астапенко М.П., Астапенко Е.М. История Донского края 1920-2006 гг. Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2007. С. 246.
5. ГАРО. Ф. Р-1818. Оп. 1. Д. 447. Лл. 497.
6. Советский Юг. 1924. 13 апреля.
7. ГАРО, Ф. Р-2577. Оп.1. Д.29. Лл.17.
8. ГАРО. Ф. Р-2577. Оп.1.Д.29. Л.29.
Материал опубликован в том виде, как был предоставлен организатором конференции - Научно-исследовательским центром традиционной культуры ГБНТУ «Кубанский казачий хор».
Оставить свои комментарии или задать вопросы авторам докладов Вы можете с 29.11.2013 г. по 29.12.2013 г. по электронной почте slavika1@rambler.ru
«Этнокультурное пространство Юга России (XVIII – XXI вв.». Всероссийская научно-практическая интернет-конференция на официальном сайте Кубанского казачьего войска http://slavakubani.ru/.
Краснодар, ноябрь-декабрь 2013 г.