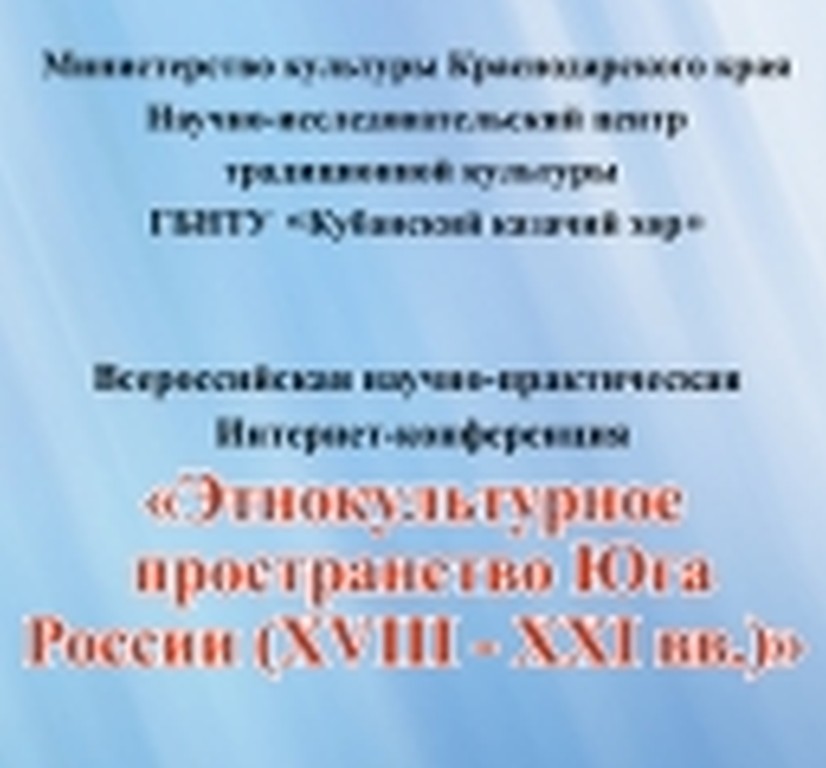Политехническая выставка задумывалась как крупное просветительное мероприятие, приуроченное к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Петра I. Она должна была пройти в Москве с 30 мая по 1 сентября 1872 г. Один из 25 ее отделов, на которых представлялись промышленные, сельскохозяйственные, военные, научно-технические и культурные достижения, был посвящен казакам.
Колосовская Т. А. (г. Ставрополь),
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России,
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Гуманитарный институт, факультет истории, философии и искусств
Российские военные в изучении и сохранении историко-культурного наследия северокавказского казачества (по материалам архивного фонда И.Д. Попко)
История включения Северного Кавказа в состав Российской империи и дальнейшее формирование единого государственного пространства неразрывно связана с деятельностью российских военных. Все чаще в современной историографии можно встретить работы, в которых указывается на многообразие функций, выполняемых в регионе русской армией [1]. Помимо своего прямого назначения – обеспечения безопасности новой окраины, российские военные принимали участие в хозяйственно-экономическом освоении края и его административном устройстве. Особенно значителен вклад военных в изучение Северного Кавказа. В разгар активных военных действий, собранные ими топографические, этнографические и исторические данные о местных народах служили незаменимой базой для выработки эффективной российской политики в регионе.
Завершение военного противостояния на Северном Кавказе (1864 г.) поставило перед властями новые задачи. «С окончанием Кавказской войны и умиротворением здешнего обширного и разноплеменного края, – писал современник, – наступила пора свести счеты с лишком полувековой, обильной событиями деятельности русского правительства на Кавказе, дабы достойно открыть новую эпоху жизни этого края, мирную эпоху внутреннего развития» [2]. В связи с этим актуализируется проблема подготовки исследований, знакомивших русское общество с присоединением Кавказа к России, с тем, какой ценой это было достигнуто. Сбор и публикация материалов по этой проблематике становится одним из приоритетных направлений деятельности военной администрации. По ее инициативе со второй половины 60-х гг. XIX в. начинается издание многотомного сборника документов под названием «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией». Десять лет спустя, созданный при штабе Кавказского военного округа Военно-исторический отдел приступает к выпуску «Кавказских сборников» [3]. На его страницах помещаются архивные материалы и свидетельства очевидцев о недавних событиях Кавказской войны.
Конечно, в общем вопросе сохранения исторической памяти о подвиге кавказских войск не мог остаться в стороне и вопрос о сохранении историко-культурного наследия северокавказского казачества. Являясь неизменной опорой политики российского правительства на Кавказе, казаки недавними примерами своего беззаветного служения «Царю и Отечеству» пробуждали патриотические чувства и благотворно влияли на воспитание подрастающего поколения. Одним из примеров, иллюстрирующих работу военных в данном направлении, является деятельность Ивана Диомидовича Попко –казачьего генерала, чье имя в настоящее время занимает почетное место в «пантеоне» известных кавказоведов второй половины XIX в.
О жизни и творчестве И.Д. Попко (1819 – 1893 гг.) написано немало научных исследований [4]. Сын войскового священника, не пожелавший связать свою судьбу с духовным поприщем, он прошел долгий служебный путь от рядового казака до генерала. Его личный архивный фонд [5], хранящийся в настоящее время в Государственном архиве Ставропольского края включает в себя многочисленные документы, освещающие как его военную и административную деятельность, так и исследовательскую работу [6]. Среди этого богатства архивных данных, в рамках настоящей статьи, обратим внимание на документы, отражающие участие Попко в подготовке материалов для военно-казачьего отдела Московской Политехнической выставки [7].
Политехническая выставка задумывалась как крупное просветительное мероприятие, приуроченное к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Петра I. Она должна была пройти в Москве с 30 мая по 1 сентября 1872 г. Один из 25 ее отделов, на которых представлялись промышленные, сельскохозяйственные, военные, научно-технические и культурные достижения, был посвящен казакам.
Согласно программы подготовки военно-казачьего отдела, на выставке необходимо было показать: 1) вооружение казачьих войск: винтовки разных калибров и систем заряжения, пистолеты, шашки, пики, кинжалы, нагайки; 2) казачье снаряжение: патронташи, седла, в том числе и употребляемые в частной казачьей жизни; 3) обмундирование – в виде фотографий и портретов казачьих атаманов и рядовых казаков. Составленный из таких портретов альбом должен был дать возможность проследить обмундирование и отчасти вооружение казачьих войск в течение трех столетий (XVII, XVIII и XIX вв.). Одновременно большое внимание уделялось рисункам, показывающим современное обмундирование в полной походной форме генералов, офицеров и рядовых. В натуре отправке на выставку подлежали папахи, бешметы, черкески и чекмени, изготовленные из тканей, вырабатываемых в казачьих войсках.
Отдельную группу готовящихся к выставке экспонатов по замыслам организаторов должны были составить фотографии и раскрашенные снимки со знамен и регалий, жалуемых казачьим войскам в последние три столетия, бунчуков, знаков атаманского достоинства и пр. Наконец, на выставку следовало представить картины, отражающие характерные эпизоды из военной жизни казаков [8].
Работу по подготовке соответствующих материалов наказной атаман Кубанского казачьего войска поручил возглавить генерал-майору И.Д. Попко, как офицеру, много досуга во время службы уделявшему на изучение истории и этнографии бывшего Черноморского войска, «а по самой служебной деятельности хорошо ознакомленного в этих отношениях и с бывшим Линейным войском» [9].
Иван Диомидович с энтузиазмом и охотой взялся за выполнение порученного ему дела. Под его председательством при войсковом штабе был создан специальный комитет, в состав которого вошли рекомендованные Попко лица: войсковой старшина Бурсак, войсковой старшина Прага, есаул Косолап, есаул Зацепин, сотник Короленко [10]. В распоряжение комитета войсковая администрация предоставила кабинет своего штаба, где в послеобеденное время, «по окончании штабных занятий», проходили его заседания [11]. Заведующий войсковым архивом получил специальное предписание выполнять немедленно все требования Попко по предоставлению ему необходимых сведений и «вообще оказывать во всем законное содействие по сему предмету» [12].
Для эффективной и слаженной работы на одном из первых заседаний комитета между его членами была четко определена сфера деятельности. Будущему известному историку черноморского казачества Прокофию Петровичу Короленко, поручалась работа с документами войскового архива. Его целью было «найти письменные факты, относящиеся к старинному обмундированию, вооружению и снаряжению казаков» [13]. Он же должен был составить опись казачьих знамен.
Ответственным за сбор предметов старинного казачьего вооружения и снаряжения был войсковой старшина Павел Павлович Бурсак – потомок известного атамана черноморских казаков рубежа XVIII–XIX вв. Ф.Я. Бурсака. Стремясь подготовить материалы, в которых «должна быть передана верная история боевого устройства войска с воспроизведением самых типов боевых людей прошлого времени», члены комитета не хотели ограничиваться лишь данными войскового архива и арсенала, по их мнению, крайне недостаточными. На места, почетным членам войска были разосланы специально подготовленные письма с просьбой представить для выставки сохранившиеся у них письменные или вещественные памятники, относящиеся к старинному вооружению и снаряжению. На непродолжительное время комитет просил прислать записки, заметки или другого рода бумаги, а также «предковские» портреты, картины, рисунки или в натуре предметы вооружения, воинского убора и одежды. Прекрасно понимая, что подобные предметы в казачьих семьях составляют своего рода святыню, комитет обещал позаботиться о должном их сбережении и возвращении в целости и с благодарностью [14]. При этом для подготовки образцов современной казачьей одежды (черкески, папахи и др.), а также казачьего седла, уздечки, недоуздка, треноги, плети решено было обратиться за содействием к атаману Баталпашинского отдела Кубанской области.
Подготовка рисунков обмундирования и вооружения казаков бывших Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск конца XVIII в. и настоящего времени была поручена единственному местному художнику Петру Сысоевичу Косолапу. Выходец из казачьей среды, он при материальной поддержке Кубанского казачьего войска обучался в Петербургской Академии художеств и в начале 70-х гг. был уже известен рядом своих произведений: «Сумасшествие», «Возвращение из ссылки», «Последние минуты Шамиля в Гунибе».
По заданию комитета Косолап выполнил два больших акварельных рисунка, представляющих формы обмундирования и вооружения генералов, штаб и обер-офицеров и нижних чинов Кубанского казачьего войска. Этому же художнику поручалось написать две большие картины на холсте, отражающие различные моменты кордонной службы казаков.
Живописные полотна, передающие реалии казачьей повседневности периода Кавказской войны, предназначались для пробуждения эмоций и патриотических чувств. По замыслу Попко одна из картин должна была передавать сцену из боевой жизни конных, а другая – пеших казаков периода Кавказской войны. Темой для первой картины был избран момент тревоги на Кубанской кордонной линии. По словесному описанию Ивана Диомидовича «на первом плане ее должен был быть воспроизведен кордонной пост с его плетневыми стенами и бойницами, остроженными терновником, и с вышкой, командующей окрестностями. Часовой на вышке, освещенный первым лучом восходящего солнца, указывает дулом винтовки направление к тому месту, где показался неприятель. Из растворенных ворот поста выбегают казаки, ведя коней в поводу и оправляя на себе оружие; одни на ходу подтягивают подпруги, другие на бегу садятся, а старики уже в седле и пустились вскачь за сотником, поднявшим на мгновение глаза к вышковому указателю. А там, впереди самого сотника, отважно галопирует старый артельный барбос, которому побежки на тревогу также вошли в привычку. Никто из выскакавших наперед не оглядывается, никто не думает поджидать неготовых; у всех одна только дума, одна жгучая забота – как бы поскорей добраться до азиатов, перехватить, не допустить их до станичного стада и малых пастушков при нем. А сколько неприятеля – счет будет после. Будет под силу, ударить и гнать – чей конь сильнее, а нет – сожмись в кучку, падай с коней и отстреливайся, пока не подоспеет подмога…» [15].
Набросанная в таких чертах картина, которая, по словам Попко, «напомнила бы старым кавказцам о прежней боевой жизни и затронула бы их за живое», из-за болезни художника осталась невыполненной. «Обстоятельство тем более прискорбное, - отмечал председатель комитета, - что художник сам был казаком, расковавшим свои доспехи на кисть и палитру - и ему не нужно было напрягать особенно творческую способность, а стоило лишь немного порыться в собственных воспоминаниях» [16]. В итоге на Политехническую выставку отправлена была лишь одна картина под заглавием «Первый момент боевой встречи пластунов с горцами на Кубанской кордонной линии».
Наконец, организация фотоснимков с войсковых знамен, регалий и портретов возлагалась на есаула Зацепина. При выполнении этой задачи также возникли непредвиденные затруднения. «К сожалению, - писал Попко, - некоторые старые, довольно типичные, портреты, при недостаточных средствах местной фотографии, оказалось невозможным воспроизвести в фотографических снимках, по причине полинялости и тусклости красок, а средств для реставрирования их не нашлось» [17]. Удалось сделать лишь несколько снимков, с тех немногих портретов, которые возможно было воспроизвести. Так на выставке были представлены портреты полковника А.Ф. Бурсака, генералов Н.С. Заводовского, Г.А. Рашпиля, Ф.А. Круковского.
Когда к плану Московской политехнической выставки добавили еще Севастопольский отдел, с Кубани в Москву были затребованы образцы обмундирования и вооружения частей бывшего Черноморского войска, а также портреты лиц, участвовавших в защите Севастополя и берегов Крыма.
Для Севастопольского отдела комитетом были подготовлены два фотографических снимка с портретов двух батальонных командиров, участвовавших в защите Севастополя: В.В. Головинского и И.И. Беднягина. Такие же два снимка с натуры были сделаны в декабре 1871 г. с двух групп офицеров и пластунов, участвовавших в защите Крымских берегов. К предложению сфотографироваться бывшие пластуны отнеслись неохотно. Находившихся уже в отставке севастопольских ветеранов, приехавших на екатеринодарский базар, Попко удалось уговорить только тем примером, что еще в 1855 г. были написаны в Севастополе с натуры портреты их боевых товарищей. Копия этой картины была издана художником Ф. Тиммом в Русском художественном листке за 1855 г.
Значительные усилия пришлось приложить Попко, чтобы разговорить своих несловоохотливых собеседников. «На предложение, обращенное к кому-нибудь из них в отдельности рассказать свои личные похождения, - писал впоследствии Иван Диомидович, - следовал уклончивый ответ: ходили, куда начальство приказывало, делали что могли и в рапортах не говорили, чего на деле не было. На том бы, может быть, и кончилась наша беседа, если бы не помогли вызывающие замечания товарищей в таком роде: да ты-ж ходил до них сено палить; или: а ты разве забыл, как покусал тебе руки тот забесованный француз, которого ты с часов стянул? Или: а ты помнишь, как под траншею с бичевкой подлазил, - ну и расскажи, чего ж тут соромиться! – Подобные напоминания вызывали на устах уличаемого улыбку, за которой являлся и рассказ, правда, сжатый донельзя, приправленный местами афинской солью и опредисловленный оговоркой: да може воно и несовсем пригодно про такие пустяки начальству докладывать» [18]. Вот такие, «рычагом вытянутые доклады», и положил Попко в основу объяснительных текстов, составленных им для отправляемых на выставку фотографий.
Подводя итог проделанной комитетом работы, Попко написал объяснительные тексты, которые сопровождали отправляемые на выставку экспонаты. Наряду, как мы сказали бы сейчас с данными «устной истории», источниками для их написания послужили дела войскового архива Кубанского войска, послужные списки, а также сочинение Попко «Черноморские казаки…» (СПб., 1858 г.) и его неизданные записки. Объяснительные тексты Попко, выпущенные в 1872 г. в виде отдельного издания, в настоящее время являются библиографической редкостью [19].
По окончании подготовки выставки научно-исследовательская деятельность Попко имела свое продолжение. В 1874 г. вышло распоряжение, согласно которому, оставаясь при Кубанском казачьем войске, И.Д. Попко должен был состоять при Кавказской армии, а для написания истории казаков на Северном Кавказе ему был открыт доступ в местные архивы [20].
К юбилейным торжествам, приуроченным к празднованию 300-летия Терского казачьего войска, вышел в свет первый выпуск его работы [21]. Собранный им материал оказался столь обширным, что в опубликованном сочинении была представлена история казаков лишь одного из казачьих полков на Кавказе - Гребенского.
В своем исследовании Попко реконструировал историю появления первых казачьих сообществ на Северном Кавказе, особое внимание уделял анализу их военного и домашнего быта, достаточно подробно остановился на вопросах развития раскола в Гребенском войске и постепенного уничтожения старинного казачьего самоуправления. Отдельные главы своей работы Попко посвятил характеристике военно-бытовой повседневности казаков Терского левобережья периода Кавказской войны.
После выхода в свет первого выпуска, Попко продолжил работу по написанию истории казачьих полков, однако новых печатных работ у него так и не вышло. Тем не менее, собранный и представленный в его печатных трудах материал и в настоящее время является незаменимым источником информации для всех, кто занимается изучением истории и культуры северокавказского казачества.
Примечания
Пылков О.С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина XIX в.) – Армавир, 2011; Черноус В.В. Русская армия на Кавказе в XIX веке: основные функции в условиях войны и поствоенной адаптации // Силовые структуры в этнополитических процессах на Юге России. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 123 – 132.
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК). – Тифлис, 1866. – Т. 1. – С. III.
Кавказский сборник. - Тифлис, 1876 – 1912. Т. 1 – 32.
Трехбратов Б.А. Жизненный путь и творческое наследие Ивана Диомидовича Попко // Трехбратов Б.А. Кубанские краеведы. – Краснодар, 2005. – С. 95-135; Чумаченко В.К. Генерал с душой поэта // Культурная жизни Юга России. – Краснодар, 2004. - № 1. – С. 3-8; Шевченко Г. Попко Иван Диомидович (1819 - 1893). – Армавир-Краснодар, 1996. – Вып. 2.
Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 377. Иван Диомидович Попко, предводитель дворянства Ставропольской губернии, Кубанской и Терской областей. Оп. 1. 1807 – 1889 гг. 53 ед.хр.
См. напр.: ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 10. Переписка об издании книги И.Д. Попко «Черноморские казаки» и статей «Пластуны» и «Закубанские воры» 11.09.1858 – 16.01.1859 гг.; Д. 28. Докладная записка И.Д. Попко о подготовке трудов по историографии Кавказского казачества и края, и краткая записка о его службе. Личная переписка. 30.09.1873 – 19.05.1874 гг.; Д. 31. Сведения о документах по историографии Кавказа в архивах Дона и Астрахани. Отчет И.Д. Попко от 8.11.1875 г.
ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 25. Переписка по вопросам представительства на политехнических выставках 1872 г.; Д. 26. Исторические и биографические очерки И.Д. Попко к фотодокументам и картинам, представленным от Кубанского казачьего войска на Московскую политехническую выставку 30 мая 1872 г.
ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 25. Копия программы подготовки военно-казачьего отдела. Л. 3-4.
ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 25. Л. 1.
Там же. Л. 6
Там же. Л. 5 об.
Там же. Л. 10.
Там же. Л. 15.
Там же. Л. 11об – 12.
ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 26. Л. 37 - 37об.
Там же. Л. 38.
Там же. Л. 4об.
Там же. Л. 46.
Исторические и биографические очерки: к фотографическим снимкам и картинам, представленным от Кубанского казачьего войска на Московскую политехническую выставку 30 мая 1872 г. - Екатеринодар, 1872.
ГАСК.Ф. 52. Оп. 1. Д. 85. Л. 76.
Попко И.Д. Терские казаки со стародавних времен. Гребенское войско.- СПб., 1880. – Вып. 1.
Материал опубликован в том виде, как был предоставлен организатором конференции - Научно-исследовательским центром традиционной культуры ГБНТУ «Кубанский казачий хор».
Оставить свои комментарии или задать вопросы авторам докладов Вы можете с 29.11.2013 г. по 29.12.2013 г. по электронной почте slavika1@rambler.ru
«Этнокультурное пространство Юга России (XVIII – XXI вв.». Всероссийская научно-практическая интернет-конференция на официальном сайте Кубанского казачьего войска http://slavakubani.ru/.
Краснодар, ноябрь-декабрь 2013 г.